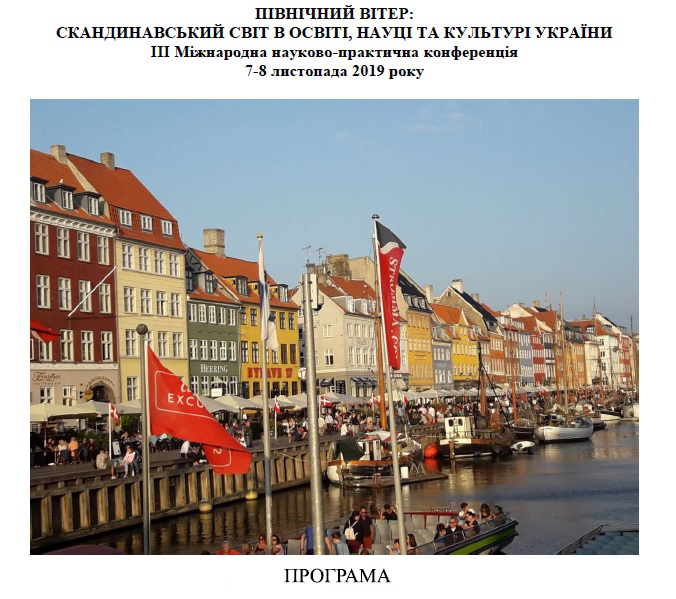Проблема романтизма и реализма принадлежит к числу сложнейших как в теории, так и в истории мировой литературы.
Учитель может встретить в самых различных книгах или статьях распространенную формулу: «от романтизма к реализму» – применительно ко всей литературе вообще или к творчеству отдельного писателя («Шевченко шел от романтизма к реализму», «Путь Лермонтова к реализму» – и т. д.). Такая формулировка, например, используется в учебнике В. Маранцмана для 9 класса (некоторые учителя по привычке все еще продолжают им пользоваться).
Такое представление о сути историко-литературного процесса в XIX в. далеко не всегда справедливо – тем более, что вообще между романтизмом и реализмом нет каких-то четких временных или творческих границ. Лучше сказать иначе: в большинстве случаев мы имеем дело не с простой сменой одного художественного метода другим, а с более сложным процессом сосуществования, а вернее – взаимодействия и взаимопроникновения.
Вообще к любым явлениям искусства нельзя подходить с какими бы то ни было однозначными критериями. Нельзя, в частности, рассуждать: что лучше: романтизм или реализм? И в том, и в другом случае есть свои приобретения, но есть и свои потери. Никто не спорит, завоевания реалистической литературы были громадным шагом вперед по пути самопознания и познания человеком мира. Реалисты осваивали действительность без предвзятости, без заранее сконструированных схем. Широта и подлинная свобода позволяла им увидеть жизнь в ее неоднозначности, сложности, противоречивости. Но романтиков зато отличала большая тяга к масштабности, к постановке вопросов о судьбах всего человечества.
Реалисты стремились установить диалектическую связь между человеком и окружающей средой. Романтики же были взволнованы проблемой, которую можно было бы охарактеризовать так: человек и вселенная. В одном случае ставился вопрос о соотношении личности и истории; для романтиков же более актуальными были размышления на несколько иную тему: человек и вечность.
Но в том-то и заключалось величие русской литературы, что в ней (если речь идет о вершинных произведениях) такого разрыва не было. Наши классики никогда не были «чистыми» реалистами. В творчестве каждого из них в большей или меньшей степени всегда присутствовала романтическая устремленность, одухотворенность высокими идеалами, которые придавали их книгам подлинную поэтичность и жажду мировой гармонии. Все это имеет прямое отношение к творчеству Лермонтова вообще и к его знаменитому роману «Герой нашего времени» в особенности.
Вот уже несколько десятилетий длится спор: «Герой нашего времени» – произведение реалистическое или романтическое? У сторонников как одной, так и другой точки зрения есть свои аргументы (порою очень убедительные); что, собственно, и делает полемику бесконечной. Между тем, в «Герое нашего времени» одновременно сосуществуют как романтизм, так и реализм. В данном случае мы имеем дело с особым типом творчества, который условно можно было бы назвать лермонтовским. Это своеобразный синтез, ибо автор гениально сумел воспользоваться разнообразными творческими завоеваниями европейской литературы его времени (тут уместно будет вспомнить Байрона, Пушкина, Вальтера Скотта и многих других поэтов и писателей).
Вспомним первую повесть, с которой начинается «Герой нашего времени» – «Бэлу». Казалось бы, перед нами типично романтический сюжет, многократно уже представленный в литературе: юная черкешенка, воплощающая некое природное начало, и офицер, уже отравленный ядом цивилизации… Любовь, возникшая между ними, закономерно приводит к трагической развязке.
В романтическом искусстве под влиянием Руссо «дети природы» обычно противопоставлялись цивилизации как носители более высокого в нравственном плане «естественного сознания». Но у Лермонтова традиционный сюжет преобразуется. Горцы у него нисколько не идеализированы. Столкновение с цивилизацией оказалось губительным для них. На самых же первых страницах произведения Максим Максимыч делится с рассказчиком своими наблюдениями над горцами: «Любят деньги драть с проезжающих…» И тут же добавляет: «Избаловали мошенников…»
Избалован и Азамат: «…ужасно падок был на деньги». Внутренних сил сопротивления у него уже нет. Процесс этот проходил и без Печорина: он лишь его довершает. Раззадорив Азамата, герой романа легко заставляет его украсть сестру Бэлу. В результате погиб ни в чем не повинный отец. Полюбив Печорина, Бэла, когда ей сказали о смерти отца, «дня два поплакала, а потом забыла».
Показательно, что Белинский с сочувствием отнесся к глубоким размышлениям Лермонтова о характере столкновений Печорина с «естественными» людьми, которые ранее идеализировались в духе руссоистских теорий. Критик был готов даже понять Печорина, который охладел к Бэле – «простой и дикой дочери природы»: «…для продолжительного чувства мало одной оригинальности, для счастия в любви мало одной любви…»
Романтический мир «естественных людей», еще недавно представлявшийся крепким, непоколебимым, самодостаточным (в какой-то степени именно таким он был представлен, например, в пушкинских «Цыганах»), оказывается очень хрупким, подверженным внешним растлевающим влияниям. Так было в «Бэле», так оказалось и в «Тамани». Неустойчивое равновесие этого мира легко разрушается случайным приезжим – Печориным.
В «Бэле» была использована сюжетная схема, очень привычная и распространенная в литературе, – достаточно вспомнить «Кавказского пленника» Пушкина. У Лермонтова же романтический сюжет остался, но раскрыт он уже с новых, реалистических позиций. Нечто подобное происходит и в «Тамани». Романтический мир, полный тайн и ночного очарования, оказывается жестоким и бессердечным: слепой мальчик, ставший ненужным, брошен на произвол судьбы…
И в «Тамани» есть романтический сюжет, романтические образы (можно вспомнить, например, девушку, которую Печорин называет Ундиной, что должно было воскресить в памяти читателя героиню одноименной поэмы поэта-романтика Жуковского). Но все это увидено и воспринято уже с реалистических позиций, что легко обнаруживается даже на стилистическом уровне. В этой связи целесообразно в классе прочитать и прокомментировать первые строки «Тамани» – начало «Журнала Печорина», офицера, который едет куда-то «по казенной надобности». В данном случае именно медленное чтение, о значении которого совершенно справедливо говорят методисты, оказывается особенно эффективным.
Уже первая фраза поражает своей простотой, обыденностью, даже прозаичностью: «Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России». И второе предложение начинается в том же ключе: «Я там чуть-чуть не умер с голода…» – но окончание ее сразу же обещает нечто неожиданное: «…да еще вдобавок меня хотели утопить».
Нельзя не обратить внимание на спокойный, непринужденный и даже какой-то равнодушный тон повествования. Вначале речь идет о чем-то привычном, повседневном, а лишь потом, как бы «вдобавок» сообщается о действительно необыкновенном событии, но сообщается как-то небрежно, походя, вскользь, потому что следующая фраза снова подчеркнуто бытовая, сообщающая лишь чисто фактические сведения: «Я приехал на перекладной тележке ночью…» и т. д.
Для романтиков было характерно своеобразное «двоемирие». В их сознании и творчестве действительность как бы распадалась на два мира: пошлое, обыденное здесь и чудесное, романтическое, возвышенное там. Отсюда возникает стремление к необычному, странному, экзотическому, иначе говоря, ко всему тому, что противостоит повседневному, будничному, прозаическому… Но для зрелого Лермонтова такое резкое противопоставление уже не характерно (в лирике это легко можно показать на примере его «Родины»), В «Тамани» традиционная экзотика (ночь, тайна, опасность, борьба за жизнь и т. д.) оказывается органически переплетенной с прозаической действительностью, которая вовсе не противостоит романтическим приключениям (что выражается, в частности, в самой манере повествования).
По-новому решает Лермонтов и проблему романтического героя. Обычно такому герою присуще традиционное презрение ко всей окружающей действительности («…И все, что пред собой он видел. Он презирал иль ненавидел», – сказано в лермонтовской поэме «Демон»), подчеркнутый индивидуализм, убежденность в своей исключительности, отказ от общепринятых правил, обычаев, законов (не только человеческих, но и Божьих). Однако у Лермонтова в последний период его творчества все это вызывало активное неприятие. И не случайно он заставляет своего Печорина достаточно самокритично оценивать и себя, и свое положение в этом мире. Рассказав о событиях, приключившихся с ним в Тамани, Печорин с сокрушением пишет в своем «Журнале»: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я нарушил их спокойствие…»
Конечно, Печорин – это лермонтовский человек; многое в нем близко и понятно автору. Мало этого: Лермонтов даже передал своему герою частичку своей души. И все же автор стремится «объективизировать» образ героя своего времени. Печорину присуще некое «демоническое начало»; но оно уже воспринимается Лермонтовым как нечто разрушительное, антигуманистическое. И не случайно в «Журнале» Печорина появляются горькие слова: «Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм… …невольно я разыгрывал рюль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?..» Судьба… Невольно… Но где же и в чем проявляется личная ответственность человека за свои действия?
Ко времени изучения в 9 классе романа Лермонтова ученики уже имели возможность познакомиться с творчеством Байрона. Уместно поставить вопрос: в какой степени байронические герои стремились подвергнуть свои поступки, свою жизнь психологической проверке «на прочность»? Были ли им присущи сомнения в своем праве распоряжаться чужими судьбами? (См., например, поэму Байрона «Корсар»). Так более внятной окажется позиция Лермонтова.
Особенно интересно проблема романтизма поставлена в повести «Княжна Мери». Считается, что в сопоставлении Печорин – Грушницкий раскрывается авторская мысль о подлинном, настоящем романтизме с присущей ему глубиной переживаний, трагическим столкновением с грубой и пошлой действительностью, напряженными поисками своего места в мире и т. д. – и его сниженным вариантом, суррогатом, имитацией, «модой» на «разочарованность».
Да, конечно, «романтизм» Грушницкого – не искреннее, выстраданное мироощущение, а всего лишь беспомощное подражание. Но каким бы жалким или бесталанным ни был этот юнкер1, он все же человек, а не объект для экспериментов Печорина. А художественная логика событий в романе приводит к тому, что Грушницкий оказывается жертвой, а Печорин (при всех его блестящих качествах) – убийцей, палачом. Поэтому антитеза: Печорин – Грушницкий приобретает в романе Лермонтова характер более сложный, чем это обычно представляется.
Печорину все время хочется сослаться на судьбу, фатум, предопределение (именно этой сложной философской проблеме посвящена заключительная часть «Героя нашего времени» – «Фаталист»). Но объективно получается так, что именно часто он (романтический герой!) становится носителем некоего злого, демонического начала.
Лермонтов сочувствует своему герою, видит в нем «силы необъятные», но видит также и другое: силы эти так и остались нереализованными. Кто виноват в этом: сам герой? Или время, которое его породило? Вот один из основных вопросов, который не имеет однозначного ответа. (Хороший материал для дискуссии в классе!) Во всяком случае, в названии романа два ключевых слова: герой и время.
Что же касается лермонтовского метода, то приходится признать, что и здесь трудно найти какой-то определенный, однозначный термин. Можно, например, сказать, что романтические сюжеты в романе и сам романтический герой воссозданы (иногда говорят: смоделированы) писателем-реалистом. Но не менее справедливым, на наш взгляд, являются суждения Максима Горького, который проницательно заметил, что «о многих классиках не русской литературы (и, конечно, о Лермонтове) трудно сказать с достаточной четкостью – кто они, романтики или реалисты?.. В крупных художниках, – писал Горький, – реализм и романтизм всегда как будто соединены… Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира» 2.
Современная наука о литературе не исключает ситуацию, когда выдающееся литературное произведение может вообще не принадлежать к какому-либо одному литературному направлению или, напротив, тяготеть одновременно к нескольким. Многочисленные факты свидетельствуют, что в искусстве достаточно часто синтезируются самые разные (порою, казалось бы, и вообще несовместимые) художественные открытия – и именно здесь возникают подлинные шедевры. Таким парадоксом объясняется, в частности, Своеобразие творчества Лермонтова. Вообще литературный процесс далеко не всегда определяется сменой или взаимодействием тех или иных направлений или течений. Необходимо учитывать и такой важнейший фактор, как борьба великого писателя за самобытность, его индивидуальные поиски своего пути в искусстве.
Марко Теплинский,
доктор филологических наук, профессор
г. Ивано-Франковск
1 Во времена Лермонтова юнкером назывался дворянин, добровольно начавший воинскую службу в качестве рядового с тем, чтобы, прослужив определенный срок, быть произведенным в офицеры. Княжна Мери думала, что Грушницкий, напротив, разжалован из офицеров.
2 М. Горький. Соч.: В 30-ти томах, т. 24, с. 471.
Міжнародна науково-практична конференція
XI
КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ.
МОЛОДІЖНІ КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
11-12 листопада 2020 року
Важливі події
Новини
-
ПНПУ імені В.Г. Короленка на шляху до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України
ПНПУ імені В.Г. Короленка на шляху до впровадження багатомовної освіти... -
Громадське обговорення мовно-літературної галузі в проєкті Державного стандарту базової середньої освіти
Чи залишаться українська та зарубіжна літератури в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ?... -
Міжнародна науково-практична конференція XI КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ. МОЛОДІЖНІ КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти! Оргкомітет запрошує Вас до участі в... -
Північний вітер – 2019
III Міжнародна конференція «Північний вітер: скандинавський світ в науці, освіті... -
Підручник із зарубіжної літератури для 6 класу
Підручник із зарубіжної літератури для 6 класу авторського колективу під керівництвом Ольги...